ЮРИЙ РОЗУМ: «Я стал бы драться только из-за музыки!»
 Сложно себе представить человека более интеллигентного, деликатного и воспитанного, чем династийный музыкант, пианист с мировым именем Юрий РОЗУМ. Общение с такими пропитанными культурой в нескольких поколениях знаковыми личностями никогда не проходит даром. Это всегда — след в истории, энергия чего-то такого, чего мы не можем видеть и объяснить, но это именно то, что соприкасает нас с вечностью и любовью, как бы высокопарно не звучали мои слова.
Сложно себе представить человека более интеллигентного, деликатного и воспитанного, чем династийный музыкант, пианист с мировым именем Юрий РОЗУМ. Общение с такими пропитанными культурой в нескольких поколениях знаковыми личностями никогда не проходит даром. Это всегда — след в истории, энергия чего-то такого, чего мы не можем видеть и объяснить, но это именно то, что соприкасает нас с вечностью и любовью, как бы высокопарно не звучали мои слова.
Мы проговорили всего час, а у меня создалось впечатление, что целую жизнь, причем со старым другом, с которым мы встречались в жизнях прошлых, хотя Юрий Александрович в переселение душ и не верит. А началось все с того, что я подарила свою новую книгу «Роковое глиссандо»…
Руки — вверх!
— Это книга о музыканте-неудачнике. Вот у вас все сложилось, а у кого-то, к примеру, не очень.
— Ну какие его годы? Все может измениться! Я тоже тысячу раз мог опустить руки. Но есть во мне, наверно, ген птицы феникс. Когда совсем-совсем все плохо, появляется какой-то толчок, второе… пятое… десятое дыхание. И потом папины слова помогают. Он прожил очень непростую жизнь. Известный певец советского времени Александр Розум был свидетелем моего очень серьезного первого взлета, когда я в консерваторию поступил первым номером, и резкого краха, когда меня сняли практически с самолета. Я должен был лететь в Брюссель в команде из пяти человек от Советского Союза на самый престижный конкурс того времени им. Королевы Елизаветы. И поскольку я слыл негласным лидером этой группы, меня освободили от занятий, я долго и усердно готовился. Но при всем при том я зачитывался Солженициным на лекциях, ездил каждую неделю в Лавру исповедываться, так что кто-то накатал анонимку по этому поводу. И меня сняли с поездки. Папа наверно переживал сей факт больше, чем я.
— Это какой год?
— 75-й. И потом, когда у меня начался новый подъем: после армии меня стали со скрипом, но пускать на конкурсы, — КГБ начал урезать мои гастроли по стране. Вот тут начался застой. И именно в этот период, когда я стал уже лауреатом многих международных конкурсов, и получил множество предложений, но ничего в моей жизни не переменилось, когда у меня действительно стали опускаться руки, папа поддержал: «Юра, ты только не сдавайся! Я очень в тебя верю! Верю, что твоя миссия — музыка!». Я не знаю, какая концовка у вашего романа, но, думаю, надо просто не опускать руки. У меня многие сверстники, коллеги поменяли профессию, но я всегда в какой-то момент «выныривал» обратно и продолжал заниматься музыкой, не смотря на проблемы и депрессии.
Booking.com
— А с Александром Солженициным встречались, когда он на даче у Галины Вишневской жил?
— Тогда не довелось. А после — на похоронах Святослава Рихтера, да. И у меня была возможность высказать ему свою благодарность и глубочайшее уважение. Я им зачитывался, когда он уже эмигрировал в Америку. Я перечитал его от корки до корки — и «Бодался теленок», и «Архипелаг Гулаг», и «Красное колесо», и «Раковый корпус»… Его книгами я буквально бредил. Потому что меня всегда привлекало идти против течения, против толпы, против всего общепринятого. Например, в армии, где все разговаривали на определенном русском жаргоне, я не сказал ни одного матерного слова. И слыл там «притчей во языцах».
— Хорошо, но когда открылись границы, сменилась коммунистическая власть, стало легче заниматься творчеством?
— Да, Горбачев когда начал перестройку, за границу ринулась вся шантрапа…
— Ну уж так и шантрапа? Многие и достойные люди эмигрировали! Тот же Евгений Кисин…
— Евгений Кисин ездил по всему миру и до Горбачева, он был над всем и неуязвим ни для кого. Он был признанный гений, а я тогда был маленькой персоной, которая тянулась к свободе. И Рихтер, и Гилельс, и Кисин по своему статусу могли и не уезжать из страны, для них ничего нового с «перестройкой» не открылось. А вот для многих неизвестных здесь деятелей в кавычках открытые границы стали возможностью представить себя на западе как крутых российских звезд и использовать ситуацию с пользой для своего кармана. Это было время, когда кто-нибудь из Большого театра собирал в срочном порядке труппу и ехал с гастролями будто бы он Плисецкая или Годунов, а на самом деле это был ноль! Это были годы периодических провалов советского искусства. Потому что лидеры, как были, так и остались те же — Александровский ансамбль, «Березка», моисеевцы, — но массовое нашествие музыкантов средней руки имело сомнительный уровень.
А я в это время еще «спал»… Я «заснул» после очередного своего конкурса в Монреале в 84-м году. Тогда мне был предложен контракт главным дирижером монреальского оркестра на трехмесячный мировой тур по всем крупнейшим залам мира. И это предложение, как и все предыдущие, было отменено КГБ. Потом я числился в областной филармонии, и выступал по Московской области, и всяким селам и поселкам нашей бескрайней родины. И тут я просто стал чувствовать, как профессия уходит сквозь пальцы. Потому что я не мог, как композиторы или живописцы «писать в стол». Им не надо, чтобы их произведения сейчас сразу купили. Они пишут в вечность. А мне нужна была публика! А когда конкретные предложения состояли из одного небольшого тура по Северному Казахстану и концертов в детских садах, в лучшем случае в музыкальных школах, даже не в музыкальных училищах, я уж не говорю про концертные залы, что было уделом элиты, куда я тогда не входил, о какой профессии можно говорить?
— Ну хоть на денежном фронте было все нормально?
— Платили хорошо, кстати. Потому что я был первый парень на деревне — самым молодым Заслуженным артистом РСФСР среди пианистов. И у меня была полная ставка плюс гастрольные надбавки. То есть за концерт выходило как месячная зарплата инженера за месяц. А этих концертов могло быть в месяц четыре — пять. Но профессионально это было совершенно убийственно. И я никак не был мотивирован, чтобы заниматься и развиваться дальше. Для того, чтобы выйти играть на пианино, на котором нет части струн, клавиш, молоточков, в котором окурки, который изначально не настроен, «Апассионату» Бетховена или «Крейслериану» Шумана — нужно было определенное преодоление себя. Конечно, я мог играть только самый примитивный репертуар, который возможно было хоть как-то изобразить на таких инструментах. Но со временем я научился играть на них. И даже получил почетное звание филармонии «Лучший пианист на худших роялях». Научился комбинировать мелодию из разных октав и как-то выбивать звук, манипулировать педалью, распределением звучности между басом, мелодией и серединой. Вообщем были специальные трюки, и я их до сих пор помню, поэтому могу играть в принципе на каждом рояле. Школа была мощная. Но мотиваций для серьезных выступлений не было.
 — То есть вы тяготели к публике, а значит и подсознательно — к славе. А тот же Евгений Кисин как-то заметил, что слава убивает свободу.
— То есть вы тяготели к публике, а значит и подсознательно — к славе. А тот же Евгений Кисин как-то заметил, что слава убивает свободу.
— Он имел в виду, конечно, порабощение концертным графиком и свою сумасшедшую востребованность, когда жизнь на много лет вперед расписана, это совершенно верно. Но у меня-то немножко другая история была. У меня не было славы.
— Но сейчас же она есть!
— Все равно не как у Жени: мой концертный график расписан не на несколько лет вперед, а всего лишь несколько месяцев. В 14-м году я сыграл 327 концертов. В 15-м — 315-ть.
— Ведете дневники после концертов? Описываете их для истории и потомков?
— Нет. Это же не все концерты уровня «Карнеги-холл»! Есть несколько серьезных концертов в год в больших залах, в разных странах и континентах, с хорошими оркестрами, но в основном это мои благотворительные концерты, в помощь моему Фонду. Чтобы поддерживать Фонд на плаву, чтобы выплачивать ежемесячные стипендии десяткам талантливых музыкантов, для этого надо постоянно общаться с новыми и новыми слушателями, демонстрировать им наших стипендиатов, потенциальных стипендиатов, кандидатов на стипендии. И вот эта работа — она практически ежедневная.
— Догадываюсь, что не все получается успевать, что запланировано…
— Да, приходится, к примеру, разучивать новые произведения по ночам. Утром у меня ученики в Гнесинке, преподавание и заведование кафедрой фортепиано там накладывает на меня еще и обязанности по отчетности, то есть время нужно и на оформление различных бумаг. Я стараюсь свести это к минимуму, но все равно надо… Потом встречи, переговоры по поводу моих концертов, концертов моих ребят из Фонда. По-моему это хорошая традиция — меценатство. Каждый из нас должен попытаться развить в себе это начало! Если ты состоялся в жизни сам — помоги состояться другому! У нас конечно в стране очень многие поддерживают детдомовских ребят и инвалидов. А поддержать просто талантливых ребят — в России это не очень развито. Талант — это зона риска всегда. Талант — еще не гарантия творчества. Талант может стать и разрушением. Если ребенок не вдохновляется созиданием, он начинает вдохновляться разрушением. И если я такого ребенка где-нибудь вдали от центра (в Москве все-таки больше возможностей ребятам развиваться), в медвежьем уголке, вижу, и что у него потенциал невероятный, я прошу педагогов уделить ему особое внимание, оказываю посильную поддержку со своей стороны. Хорошо, когда это получается. Но зачастую взрослые не дают детям творческой свободы, и постепенно улица таких детей затягивает, так как там они могут проявить свои лидерские задатки. Иногда конечно встречаются ребята, которые твердо уверены в себе, и они рисуют, рисуют, рисуют, или играют, играют, играют на инструментах, несмотря ни на какие препоны. Но это скорее исключение. Поэтому я и ищу таланты, чтобы их увлечь, чтобы их не увлекли другие люди, и не произошло разрушение их личности, их жизни.
«Играй фразами!»
— Но если вспомнить многих известных талантливых ребят… Их же не увлекали, как вы говорите, а скорее заставляли насильно заниматься игрой на инструментах. Тот же Людвиг ван Бетховен, или Полина Осетинская…
— Нет, если по большому счету, то мы все были принуждаемы в детстве. В «нулевке» при Гнесинке, когда у меня обнаружили абсолютный слух и отдали одной очень известной учительнице, она была подругой моей мамы, я возненавидел музыку. Потому что эта учительница была слишком правильная, слишком педантичная, слишком академичная. Мне было не интересно. Она давала мне задание, а я садился за ноты и плакал. Мои друзья бегали, прыгали на солнце, а у меня слезы ручьем лились за роялем. И больше двадцати минут я никогда не мог высидеть за инструментом. Однажды я заявил родителям, что больше не пойду в музыкальную школу. И тут через связи папы, через его учителя Геннадия Геннадьевича Адена, меня представили Анне Даниловне Артоболевской. Это была легендарная пианистка и педагог ЦМШ, воспитавшая тысячи музыкантов. И когда я ее увидел, и она провела со мной десять минут тестирования, мне стало интересно то, что она просила меня сделать. От нее исходило тепло и свет. Она маме сказала: «Да, это наш ребенок!» — и тут же надавала мне уйму каких-то сложных произведений. Я пришел домой и сел заниматься. Первым, через час, забеспокоился мой дед. Обычно он всегда покрывал мою лень. Он был инвалид, пенсионер, не работал и всегда был дома. А все остальные — следили строго, особенно главный мой цензор бабушка, так как мама и папа всегда были с головой заняты. Так вот вечерами дедушка меня покрывал: «Юра много занимался, ему надо отдохнуть!». А я даже не садился может за рояль. Так вот первым в тот раз пришел дед — заглянул. Через полтора часа — папа. Мама пришла через два с лишним часа. И уже через три часа — бабушка: «Ну ладно, ну хватит уже играть!». Вот так на меня повлияла встреча с Аннушкой. Но постепенно энтузиазм охладел. Я частенько продолжал халтурить. До момента, когда в 9-м классе меня перевели от милейшей, интеллигентнейшей Анны Даниловны к жесткому, потрясающему пианисту, народному артисту СССР, будущему профессору, декану Московской государственной консерватории Евгению Васильевичу Малинину. Он был мощнейшая личность. И он, конечно, скрутил меня в бараний рог. Потому что когда ты приходишь и в первый раз ноты видишь на уроке — это плохая привычка… Он сразу сказал: «Пока наизусть не выучишь, даже не появляйся!». И так, из последнего ученика ЦМШ (а я в хвосте всегда плелся), я через три года поступил в консерваторию первым номером с большим отрывом.
— А не хотелось, чтобы дочь пошла по вашему пути?
— Мне казалось, моменты сложных взаимоотношений с мамой Александры несколько увели нас от этого.
— Полиной Осетинской занимался отец, когда они разошлись с женой, и пожалуйста — мы узнали талантливую девочку-пианистку!
— Полина проявляла явные способности, и поэтому отец отдал всего себя ради нее. А в моем случае все наоборот. У Саши не было особого дарования, ее надо было просто все время заставлять заниматься. Я, бесспорно, виноват — ее конечно надо было учить. Но профессионала бы из нее не стало. Хотя она с самого рождения была окружена классикой. Когда я занимался, ее люлька стояла прямо на рояле. Даже где-то фотография такая сохранилась. Потом она все время находилась среди моих друзей — людей искусства, которые бывали у нас в гостях. Она в этом росла, все это впитывала, была этой атмосферой музыки перекормлена, что пригодилось ей для развития, но не для профессии.
— Юрий, вас все время окружают девушки-пианистки и девушки-модели. А с девушками из рок-групп к примеру не находите общий язык принципиально?
— Ну модели меня окружают, потому что моя бывшая супруга, с которой мы до сих пор в дружеских отношениях, — модель. И рок-музыку я тоже люблю! Я общался с ребятами из группы «HIM», «Rammstein», они у меня бывали часто в гостях. Меня иногда приглашали на корпоративы вместе рок-группами, где мы совместно что-то делали — «Полет шмеля», например. С одним диджеем мы недавно исполнили небольшую композицию по Адажио из «Щелкунчика» Петра Ильича Чайковского.
— Такой опыт интересен?
— В творческом смысле — ансамбли вообще мне в принципе не очень импонируют! Я люблю выйти на сцену — и чтоб там никого не было. Не хочу обидеть никого из моих партнеров… Я очень много играю с вокалистами. И наверное после сольных исполнений такая форма партнерства мне ближе всего, потому что мама, Галина Рождественская, была дирижером-хормейтером, у нас постоянно дома звучали русские песни. Мама взяла в хор совсем юную Людмилу Зыкину, я на ее голосе рос, я на концертах папы тоже проводил уйму времени. Но из всех вокалистов, с которыми меня жизнь столкнула, меня научила «играть, как разговаривать» именно Зыкина. Людмила Георгиевна мне всегда говорила: «Играй фразами! Ты можешь нажать неправильные ноты, но играй как будто поешь — бери дыхания и ставь точки в конце предложений». Постепенно я вслушивался в то, что она делала, и естественность ее голоса, правильность расставленных кульминаций, акценты в мелодии — это я все у нее взял. Потому что она конечно «поет, как дышит».
— В сериале «Людмила» про нее показана действительность или как всегда выдумки сценаристов?
— Я даже не посмотрел фильм! Она была для меня слишком близким человеком, как мать вторая. Когда мамы не стало в 2001-м году, она меня очень поддерживала. Иногда раньше я даже жил у нее на даче, начиная с того злосчастного момента моего 3-го курса, когда я готовился к поездке в Брюссель. Потом, не смотря на то, что я был под прицелом КГБ, она дала мне рекомендацию в аспирантуру. А после армии мне некуда было деваться, и Зыкина взяла меня в ансамбль.
Когда классическое искусство в годы перестройки перестало быть востребовано, я получил вид на жительство в Германии, где и концертировал несколько лет. Там я подружился со старорусской княгиней Татьяной Илларионовной фон Меттерних — Васильчиковой по отцу, Вяземской по матери. Вот она, когда меня услышала, вдруг сказала: «Играет, как дышит!». А я все время так думал о Зыкиной! Значит, все-таки советы Людмилы Георгиевны не прошли для меня даром.
— С кем еще из великих вокалистов вам приходилось выступать?
— Со многими. С Зурабом Соткилавой, с Владимиром Редькиным, Арсеном Согомоняном. Мы выступали и с Колей Басковым, и с Тамарой Гвердцители, и с Сашей Малининым, и с Олегом Газмановым. Это немного другой вокал, но мне это все равно более импонирует, чем инструментальная музыка в дуэтах или трио без вокала.
— Вы много репетируете перед этим или же полагаетесь на импровизацию?
— По-разному, Юль. Например, с Соткилавой мы длительно и серьезно репетировали, а с кем-то хорошо знакомым можем выходить практически без репетиций.
Самое большое счастье для меня — выйти на сцену, играть то, что ты любишь, то, что в тебе живет и сделать зал твоим партнером по дуэту, хоть и молчаливым, но собеседником. Потому что ты чувствуешь течение их внутренних сил. И когда возникает эта связь, когда ты музыкой можешь заставить людей и плакать, и радоваться, и вдохновляться, и чувствуешь это единение — это самое великое счастье. А что еще надо?
У уникальных людей конкурентов не бывает
— Какой из художественных фильмов о музыкантах вам наиболее импонирует?
— Никакой. Везде излишний романтический налет убивает реальность. Жизнь музыканта не показывается такой, какая она есть. Моцарта, к примеру, представляют как какого-то дурачка… Мне не нравится фильм «Shine» («Блеск») про австралийского пианиста Дэвида Хельфготта, который сошел с ума и которого я лично знаю. «Пианистка» — там не столько о музыке, сколько о личной драме… Вообщем, я не знаком с таким фильмом, который бы отображал действительную жизнь музыканта, его творческий процесс. Почему-то музыку представляют как какой-то побочный вспомогательный элемент, много искажают и в характере музыканта…
— Но разве не вы как-то сказали в одном из интервью, что биография композитора вам нисколько не интересна, так как она не передает исполнителю ощущения, как надо играть? Разве не помогает знание того, что было в душе у композитора в момент написания того или иного произведения?
— Да, все, что мне нужно знать, — это ноты. Потому что биография, если музыка моему сердцу ни о чем не говорит, не поможет! Чтение от головы — я здесь ничего не угадаю. Знание жизни композитора необходимо лишь тогда, когда ты уже играешь произведение, представляешь полную картину истории и ищешь дополнительный штрих или краску… Обычно все, что композитор хотел сказать, — есть в нотах!
И потом… композиторы зачастую выражают не то, что переживают в конкретное время написания. Они могут изобразить самое радостное и жизнеутверждающее в самый трагический момент своей жизни!
— А вы чувствуете, когда так?
— Надеюсь, что да. Каждое музыкальное произведение — это отдельно взятая самодостаточная жизнь. В ней есть своя борьба, есть свой пик, свой спуск, своя любовь. И это всегда — свой разговор, свой сюжет. И он может не иметь ничего общего с тем, что в тот момент с композитором происходило. Разучивая произведение, надо погрузиться в музыку так глубоко, чтобы у тебя появилось ощущение, что это твоя мелодия, твоя история, что это ты ее написал!
 — Иногда музыканты жалуются: «Вот, дома или на репетиции получалось лучше, а на сцену вышел — и не то!». У вас так не бывает?
— Иногда музыканты жалуются: «Вот, дома или на репетиции получалось лучше, а на сцену вышел — и не то!». У вас так не бывает?
— Это детская болезнь! Меня давно научили ее преодолеть и выплескивать эмоции через произведение в зал, именно на слушателя. Хотя я знаю тех исполнителей, которые не выступают, а играют только в записи — на аудио и видео носителях. Они считают, что разговора с богом им достаточно. А моя душа начинает гореть именно в разговоре со зрителем, волнение переплавляется во вдохновение и именно тогда происходит творческий подъем, ты летаешь, ты объединяешь сердца… Поэтому я не очень люблю записываться в студии — мне нужно раз десять сыграть одно и то же, чтобы как-то себя раскочегарить. Мои лучшие записи — именно с концертов. Во мне обязательно должно что-то щелкнуть внутри, чтобы музыка раз… и начала литься!
Мне в свое время много дала йога. Она у меня много отняла и много дала. Я два года жил как монах в юности, когда увлекся индийскими системами. Я с 17-ти до 19-ти лет не то чтобы алкоголь не пил, я не ел мясо и рыбу, даже чай и кофе, отказался от многих пищевых излишеств, не занимался сексом. Как результат — исчезли эмоции. Но тогда я стал очень примитивно играть. Даже профессор Малинин заметил: «Ты играешь намного профессиональнее, чем раньше, но… в твоей музыке ничего нет!». И я понял, что надо что-то менять! И когда снова вернулся от своего аскетизма к нормальной человеческой жизни — все стало на свои места в эмоциональном плане. Но потом я решил, что надо как-то совместить и тот двухлетний опыт, и эмоциональную насыщенность. Поэтому оставил йогу на уровне гимнастики, без медитаций и без того, что чуждо мне, как русскому православному человеку. Я действительно тогда дал себе обет, который исполняю всю жизнь. И при моей антирежимной жизни это достаточно серьезный стержень. Потому что опыт концентрации не прошел даром. На мои концерты в Германии часто приходил один немецкий психолог. Он писал работу о влиянии всяких искусств на человеческую психику. Так вот он мне сказал: «У вас есть одна способность, не музыкальная. Но вы ее связываете с музыкой. Вы можете входить в транс. И вы через музыку входите в транс. И вводите в транс многих ваших слушателей! И я наблюдаю это на многих ваших концертах!».
А насчет страха… Как я научился преодолевать страх перед публикой? Мне преподаватель сказал: «Учись играть для кого-то! Посади свою подругу перед собой — и играй ей! И страх уйдет!».
— И вы так и сделали?
— Да!
— А приходилось ли драться из-за девушек? Или все-таки руки пианиста — святое?
— Нет, не приходилось… Зачем? Пусть она сама просто сделает выбор и все. Но если по большому счету — я стал бы драться только из-за музыки.
— То есть к примеру играете вы с Денисом Мацуевым в дуэте, вдруг встаете, подходите к нему: «Что-то ты, Дениска, тут ля бемоль в прелюдии не так взял!» — и подзатыльник ему?
— (Смеется) Во-первых, Денис физически мощнее! Во-вторых, в сообществе музыкантов есть уважение к тем, кто имеет свое лицо, свое достоинство. И у Дениса оно есть, он неподражаем! И под него нельзя подстроиться. Так же как под Рахманинова или Горовица… Когда у музыканта музыка говорит, и говорит только то, что, естественно, есть в нем самом (а из этого следует, что этого нет ни у кого другого, как бы кто ни старался подражать), тут даже и конкуренции как таковой нет. Он просто занимает музыкальную нишу, которая может быть более популярна, чем моя, но по сути наши ниши одинаковы: просто у него — своя, у меня — своя. А если нет конкуренции — значит нет смысла и драться.
— Кто вам более по душе из музыкантов «старой школы»?
— Наверное, Горовиц.
— Более эмоциональный, чем, к примеру, Рихтер?
— На мой взгляд, да. Владимир Горовиц настолько всегда и везде был в музыке! Он — это царство абсолютной музыкальной свободы! Его искусство завораживало! На концертах Горовица зрители сидели на краешках стульев и всех трясло. Рихтер играл над исполняемым. Святослава Теофиловича Рихтера я бы охарактеризовал как мастера отточенной технически игры.
— Как выбираете репертуар обычно? Чему отдаете предпочтение?
— Мое дело — играть романтиков и классиков. Я не лезу в современную музыку. Романтический материал — от Вебера, Шуберта до Рахманинова — там столько неигранного богатства, что жизни не хватит, чтобы все разучить!
— Есть ли у вас какой-то исполнительский секрет, которым вы обычно делитесь со своими учениками?
— Я бы не называл себя прирожденным педагогом! Поэтому на занятиях я обычно рассказываю о своем опыте и учу слышать более тонко. Молодые люди не совсем устанавливают взаимосвязь между своей душой и пальцами. В этом их главная проблема.
© Юлия Руденко
Опубликовано: 7 февраля, 2016
Категория: No problem?, Королевство Творчества, Звездный мир
Комментарии: 0

















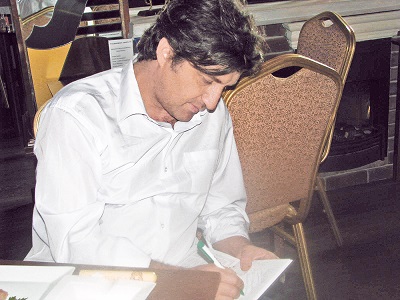




Написать комментарий